Евгений ЕВТУШЕНКО: «Взорваны наша страна и судьба, взорвана русская тайна. Может, мы все — только клочья себя, взорванные несрастаемо?»


«НО Я В ТЕБЯ, ДРОЖА ОТ СЧАСТЬЯ, КАК ВО ВСЕЛЕННУЮ ВОШЕЛ...»
— Сегодняшние свои стихи о любви вы называете «доисповеди»: вы что — раньше от публики что-то скрывали?
— В стихах я исповедовался всегда, и люди, которые их читают, знают меня как человека прекрасно. Прозаики гораздо больше защищены от вторжения в их внутренний мир: между ними и читателями есть их герои (хотя, когда Анна Каренина рожала, Толстой физически ощущал схватки)...
В моей жизни были какие-то интимные вещи, которые я хранил глубоко в душе, признаться в них не решался. Сейчас — я это почувствовал — пришло время доисповедаться, сказать все, как было, хотя некоторые подробности ханжей могут шокировать. Ну, например, когда-то я уже писал о своей первой любви, но до нее у меня была первая женщина, о которой я умолчал. Как это произошло?
15-летним мальчишкой меня исключили из школы в Марьиной Роще. Кто-то похитил классный журнал, поджег, и мало того, ударил сторожа. Я — человек провинциальный, патриархальный, сибиряк, и никогда не поднял бы руку на старика, но, изучив отметки учеников, директор школы логически вычислил: раз Евтушенко схватил пару двоек, кол, да еще имеет нелестные отзывы о поведении (удирал с уроков через окно), значит, это его рук дело.
Перед всем классом меня заставляли просить прощения, я доказывал, что ни в чем не виноват, и тогда директор обозвал меня трусом. Для мальчишки военного времени это было самым большим оскорблением, тем более уже в восемь лет, когда началась война, я стоял на крыше собственной школы, чтобы тушить немецкие заряды... В общем, меня вышвырнули с «волчьим билетом». (Спустя много лет на встрече выпускников один из одноклассников в присутствии учителей признался, что это было его рук дело. Директор заплакал, ребята хотели этого парня побить, но я за него вступился. «Я, — сказал, — давно уже его простил»).
Это было сталинское время, 48-й год, и папа, который с нами не жил, но всегда в трудные минуты мне помогал, написал своим друзьям-геологам рекомендательное письмо. Так я уехал в алтайскую экспедицию, а что тогда были там за деревни? Сплошные солдатки. Из мужчин только старики, дети или покалеченные войной инвалиды. Одна из вдов, пасечница, и стала моей первой женщиной.
...Она была на 12 лет меня старше и одиноко жила на отшибе села. Все, что между нами произошло, считалось тогда уголовным преступлением, ведь мне было только 15 лет — я даже паспорта не имел. Ростом был такой же, как и сейчас, но тоненький, словно тростиночка, и врал, прибавляя к своему возрасту пару лет. Вдова, когда это поняла, была просто убита, раздавлена — женщина религиозная, она сочла свой поступок страшным грехом.
Между нами была не любовь: сначала мною двигало любопытство, но потом пасечница очень понравилась мне по-человечески. Она была поразительно чистым существом, благодаря ей я открыл доброту и чистоту женской души, что для мужчины в первом опыте очень важно. Может, не будь ее в моей жизни, я и не стал бы поэтом...
— Вы больше не встретились?
— Нет. Я не знал, что с ней, но со временем, становясь менее молодым, стал чаще ее вспоминать. Уверен, самый страшный человеческий грех — неблагодарность, и мне хотелось как бы выразить ей свою признательность. Я подумал: может, она до сих пор живет в том селе в полном одиночестве и вспоминает о грехе, который сама себе не простила. Ну как объяснить ей, что ничего плохого она не сделала — наоборот?..
Я написал стихи и пришел с ними на радиостанцию «Маяк», которая вещает во все медвежьи углы. Прочитал их в надежде, что алтайская вдова услышит, а поскольку на радио работают женщины, они передавали запись несколько раз в день в течение двух недель... Итак, «Первая женщина»:
Любиночки — что за словечко...
На посиделках у крылечка
шепнула ты: «Смелее будь.
Зайди под кофту. Там, как печка»,
и пригласила руку в грудь.
Медведь тряс цепью во дворе.
Изба встречала, скрипнув глухо.
«Я, коль сравнить с тобой, старуха.
Шестнадцать есть?». Набравшись духа,
я сдунул с губ небрежней пуха:
«Давно уж было... В январе...»,
и золотилась медовуха,
шипя в брезентовом ведре.
Как танцевали мои зубы
по краю острого ковша,
когда поверх овчинной шубы
я ждал тебя, любить спеша.
И ты сказала: «Отвернись»,
а я совсем не отвернулся
и от восторга задохнулся,
взмывая в ангельскую высь.
Ты пригрозила, вскинув ступку:
«Бесстыжий, зыркать не моги!»,
и, сделав мне в душе зарубку,
легко перешагнула юбку,
и трусики, и сапоги,
став нежным ангелом тайги.
Давно вдова, а не девчонка,
белым-бела, лицом смугла,
меня раздела, как ребенка,
рукой голодной помогла.
На пасеке в алтайской чаще
смущался я того, что гол,
но я в тебя, дрожа от счастья,
как во Вселенную вошел.
И стал впервые я мужчиной
на шубе возчицкой, овчинной.
Тебе с отвычки было больно —
пять лет назад был муж убит.
Закрыла ты глаза невольно,
его представив, может быть.
Был пчелами твой лоб искусан.
Узнав, что мне пятнадцать лет,
упала ты перед Иисусом,
рыдая: «Мне прощенья нет».
И он простил тебя, конечно,
за то, что ты, почти любя,
стекляшкой бедного колечка
в меня вцарапала себя.
И всею истовостью тела,
грудей нетроганно тугих
ты наперед тогда хотела —
чтоб я любил тебя в других.
Это стихотворение написано прошлым летом.
«МЫ ОТЧАЯННО БАЛДЕЛИ В ТУ ЭПОХУ ОТ ФИДЕЛЯ, И ОТ ЧЕ, И ЧА-ЧА-ЧА»
— В 72 года... Простите за бестактность, вы не чувствуете приближения старости?
— Старость приходит, когда человек сдает или предает идеалы своей молодости, а вообще, говорить о возрасте скучно. Когда мне исполнилось 70, я отшучивался, что у меня юбилей 07, то есть номер телефона, соединяющий разъединенных людей, а если добавить еще ноль, получалось нечто похожее на «джеймсбондиану», напоминающую о рискованных приключениях в 94-х странах, где удалось побывать. Об одном из них расскажу...
Это было в 1960 году, после того, как в который уже раз меня сняли с поезда, идущего за границу (два раза и с самолета снимали). Спас Степан Петрович Щипачев — этот тихий, застенчивый поэт, написавший «Любовью дорожить умейте», пришел в ЦК партии, бросил свой, полученный еще 1918 году, партбилет и воскликнул: «Что же вы с нашей молодежью делаете, почему крадете у них мир, который они должны и имеют право увидеть?! Если Евтушенко не выпустят за границу, я выйду из партии».
 На одном из приемов с Дмитрием Гордоном, Виталием Коротичем и Виталием Кличко. Влюбленный в Кличко Евтушенко прослезился, когда Виталий вдруг начал читать наизусть его малоизвестные стихи |
В результате, немало еще натерпевшись, отправился я в гнездо американского империализма — город Нью-Йорк. Накануне нас строго инструктировали: поодиночке ходить нельзя, а особенно следует всячески избегать контактов с той половиной американского населения, которая относится к женскому полу, — могут сфотографировать в неприятных позах, скомпрометировать, похитить, завербовать... Короче, столько и так пугали, что ужасно захотелось попробовать, а еще не терпелось узнать, что же это за фрукт запрещенный — стриптиз (по-английски я знал всего два слова «well» и «strip-tease»).
В США я захватил значок с фотографией Фиделя Кастро — молодой очаровательный революционер, скинувший кровавого диктатора Батисту, был одновременно идолом советской и американской молодежи.
Каково же было мое удивление, когда в Канзас-Сити ко мне подошли две девушки, и у одной из них на груди я увидел точно такой же значок, как у меня. Девушка попыталась заговорить со мной по-английски — я ответил: «Ай не спикаю». Она поняла и поинтересовалась, как у меня с испанским, а я, как и многие молодые люди того времени, этот язык учил. Она спросила: «Скажите, вас можно потрогать? Нам говорили, что в Советском Союзе все люди — роботы».
В общем, Фидель нас сосватал. Красавица мне сказала: «Слушай, ты можешь на пару дней отлучиться из группы? Я тоже удеру от мамы с папой, и мы махнем с тобой в самый красивый город Америки — Сан-Франциско. Напиши записку своим, чтобы не беспокоились». Так я и сделал. Представляешь, как схватился за сердце руководитель нашей делегации?
...Эти два-три дня были сказкой. Шутливо я называл ее «гринга», хотя в женском роде этого слова не существует (американцы зовут так испанцев). Утром, когда она сладко спала, а мне не хотелось ее будить, я ушел — нужно было возвращаться... Эти стихи — тоже моя доисповедь.
Это было в Сан-Франциско,
где укрылись мы от сыска
Си-Ай-Эй и КГБ —
русский и американка —
ночью, душной, как Шри-Ланка,
в нежной классовой борьбе.
Звал я ту девчонку «гринга».
Между наших губ искринка
возникала, стрекоча.
Мы отчаянно балдели
в ту эпоху от Фиделя,
и от Че, и ча-ча-ча.
Но напрасно наш отельчик
сладострастно ждал утечек
информации из уст.
Были занятыми губы,
и нам стало не до Кубы,
не до Кастро и лангуст.
Боже мой, как мы хотели
жить всегда лишь в том отеле,
никуда не выходя,
и сжимать без остановки
лишь друг друга, как винтовки,
и писать стихи в листовки
бородатого вождя.
И не верили мы страстно,
что стареет даже Кастро,
что не вечен СССР.
Мы конец капитализма
предрекали, — в том клялись мы,
поедая камамбер.
А потом — в нешевеленьи,
утром плыли мы на лени,
как на медленном плоту,
и пылинками все мифы
над левацкой Суламифью
золотились на свету.
Но история — ловушка.
Испарилась ты, «левуша».
Полуиспарился я.
Развалилась наша слитность,
все смешалось в кучу, слиплось
в ком осклизлого вранья.
В США на кинорынке
заработать на «левинке»
могут, кто не дураки.
А в Москве, как за отвагу,
тех, кто гнали танки в Прагу,
называют «леваки».
Эй, история! Куда ты?
Левые партбюрократы
в лимузинах воровато
ездят, шапки заломив.
Нам осталось только слушать
порознь Путина и Буша,
нам не вместе скушно, душно.
Где же ты, моя «левуша»,
сломленная Суламифь?
«ЗАПАХ СЛОМЛЕННОЙ В ПРОШЛОМ СИРЕНИ ОСТАЕТСЯ НЕСЛОМЛЕННО СВЕЖИМ»
— У вас почти нет стихов об изменах, женском коварстве, но в вашей лирике красной нитью проходит тема вины перед женщиной...
— Чему же тут удивляться — это естественно! Каждый человек — автор книги своей жизни, но есть много людей, которые помогают ее нам писать. Так случилось, что у меня ими чаще оказывались женщины: они никогда не были ко мне жестоки, а вот я нередко причинял им боль, пускай и не желая того. Ну что делать — мне нравится в жизни элемент импровизации: без этого она бы превратилась в занудство... Хотя Володя Соколов однажды спросил: «Женя, не понимаю, зачем тебе столько женщин — у тебя такое богатое воображение?». Но нужны... По-прежнему нужны...
— Понятно теперь, почему в одном из последних интервью вы признались: «Я бы сошел с ума, если бы у меня была дочь — каждый молодой человек рядом с ней казался бы мне мною»... Вас что — мучают угрызения совести?
— Хм, а ты обращал внимание, как странно устроена грамматика: принято говорить, что женщина отдается любви, а вот про нас, мужчин, этого не скажешь. Разве что, увидев на другой стороне улицы красивую девушку, какой-нибудь прожженный ловелас плотоядно ухмыльнется: «А не плохо бы на часок-другой отдаться вон той, у которой ноги прямо из шеи растут». Меня такой цинизм коробит. Не уважаю донжуанов, составляющих расписание любовных встреч и ведущих списки побед (я называю их «Амбарные книги страстей»), которыми при случае они не прочь похвалиться.
Конечно, не все такие — попадаются среди нас и благородные существа. Нужно помнить, что любовь наших подруг по природе своей жертвенна: отдаться — значит, отдать себя. Для обозначения этого явления я даже придумал слово «всеотдайность» и написал об этом стихотворение:
Мужчины женщинам не отдаются.
Они, как водку, судорожно их пьют,
А если, прости Господи, упьются,
То под руку горячую их бьют.
Мужская нежность выглядит
как слабость?
Отдаться — как по-рабски шею гнуть?
Играя в силу, любят хапать, лапать,
грабастать даже душу, словно грудь.
Успел и я за жизнь поистаскаться,
но я, наверно, женщинам сестра,
и так люблю к ним
просто приласкаться,
и гладить их во сне или со сна.
Во всех грехах я ласковостью каюсь,
а женщинам грехи со мной сойдут,
и мои пальцы, нежно спотыкаясь,
по позвонкам и родинкам бредут.
Поднимут меня женщины из мертвых,
на свете никому не изменя,
когда в лицо мое бесстрашно смотрят
и просят чуда жизни из меня.
Спасен я ими, когда было туго,
и бережно привык не без причин
выслушивать, как тайная подруга,
их горькие обиды на мужчин.
Мужчин, чтобы других мужчин мочили,
не сотворили ни Господь, ни Русь.
Как женщина, сокрытая в мужчине,
я женщине любимой отдаюсь.
Вот еще одна, если хочешь, доисповедь. Когда я жил в Москве на 4-й Мещанской улице в маленьком деревянном домике, у меня была книжка Блока, дореволюционное издание. Я очень любил ее перелистывать, наслаждаться правописанием с ятями, впитывать невиданный мною мир, в котором жили великие Блок, Ахматова, Пастернак... Это издание лежало на моей тумбочке рядом с постелью: мне было 20 лет, и у меня впервые случился роман с замужней женщиной.
Она была всего на три года старше, но уже имела ребенка, и это делало ее гораздо более взрослой. Я ее очень любил, но она так странно себя вела — не разрешала сентиментальничать, запрещала говорить о любви. Я не понимал, обижался, считал это цинизмом: был тогда просто мальчишкой и в женщинах не разбирался. Вдруг, в один прекрасный день, моя любовь исчезла. Насовсем, причем никто даже не знал куда.
Шли годы, и вот через — страшно даже сказать! — 50 лет, перебирая чулан, я случайно наткнулся на дореволюционную книжку Блока. Такое испытал наслаждение от соприкосновения с этими, столь любимыми мною страницами, и вдруг из книги выпала ее фотография. На обороте оказалось письмо — я прочитал и понял...
 «Мы по казарменному коммунизму шли, улыбаясь, как по карнизу, — так неужели, чтобы кормиться, придем в казарменный капитализм?» |
Это было признание в любви — невероятно сентиментальное, немного горькое и, может, с надеждой, что, когда я его найду, мы снова окажемся вместе. (Когда-то я написал «...но женщины надеются всегда, особенно когда все безнадежно»). Наконец, до меня дошло, как она разрывалась между любовью ко мне и своему ребенку, как тяжело сделала выбор, надеясь, что я обязательно ее отыщу. А я, мальчишка, не предпринял даже попытки, будто наши отношения ничего не значили. Господи, как это страшно!
Об этом я написал стихотворение «Старое фото» и пришел с ним в издательство, где готовилось мое собрание сочинений, посоветоваться: стоит его публиковать или нет. Они сказали: «Надо напечатать с фотографией». Я сомневался — все-таки роман был с замужней женщиной, но меня утешили: «Женечка, сколько уже лет прошло. Может, она давным-давно не живет со своим мужем, а даже если семья не распалась, он, если не дурак, конечно, должен гордиться, что его жена вдохновила когда-то такого поэта!». В общем, уговорили, после чего газета «Известия» опубликовала и стихотворение, и фото (естественно, без фамилии).
Я уехал преподавать в Оклахому, и вдруг через две недели звонок: «Евгений Саныч, здравствуйте! Не узнаете? Помните, вы качали меня в коляске, когда мне был ровно годик?». Это оказался ее сын... «Не беспокойтесь, — сказал он, — я все понял: вас жгло, вы стыдились, что не искали тогда маму, но этим стихотворением вы помогли ей понять, что не забыли ее. Она плакала счастливыми слезами и, хотя ничего мне о вас не рассказывала, я сам обо всем догадывался, потому что мама часто читала мне ваши стихи. Она давно развелась с моим папой, живет одна. Позвоните ей, только не говорите, что это я дал вам номер». Я немедленно набрал ее телефон... Наверное, это был самый долгий разговор между американским городом Талса и Москвой...
Оставаясь всегда молчаливой,
в домик наш на Четвертой Мещанской
ты вбегала поспешно счастливой,
убегала поспешно несчастной.
Это было под ливнем, под снегом,
лихорадочным взрывом к безднам.
начиналось отважным побегом,
завершалось застенчивым бегством.
Ни в какую ты роль не вживалась.
Тело дав, душу прятала в теле,
и в меня ты до боли вжималась,
но глаза на меня не глядели.
Было мне ничего не известно
о другой твоей жизни — ночами.
Твои ногти вонзались в известку,
процарапывая смысл молчанья.
И ныряла ты в наши клоаки,
то в автобус, то в чрево вокзала,
но не мог я прочесть эти знаки,
когда ты второпях исчезала.
Еще чуть оставался твой запах —
свежесломленной белой сирени,
но навек ты исчезла внезапно,
мы полвека отдельно старели.
И случилось нечаянно что-то,
я наказан был жизнью жестоко:
я нашел твое старое фото,
то, что тайно вложила ты в Блока.
Были строки на обороте:
«Я люблю тебя. В самом деле».
И душа проступила из плоти,
но глаза на меня не глядели.
Голос шел — может быть, из могилы:
«Ты сумеешь большого добиться.
Я несчастная. Значит, милый,
всем моим пожеланиям — сбыться».
Слава Богу, что спрятала книжка
голос, близкий до дрожи по коже.
Был я грешный небрежный мальчишка,
а сейчас разве я не такой же?
И чего я мечусь в исступлении
по морям и по всем побережьям?
Запах сломленной в прошлом сирени
остается несломленно свежим.
«ПАСТЕРНАК ДАЛ МНЕ СОВЕТ: «РАДИ БОГА, НИКОГДА НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЙТЕ В СТИХАХ СОБСТВЕННОГО САМОУБИЙСТВА»
— Много времени вы проводите в России, в поездках по миру, но большей частью живете в Соединенных Штатах, преподаете в университете города Талса...
— Ну почему — я провожу там примерно полгода: пятьдесят на пятьдесят.
— И все-таки не очень понятно, почему вы выбрали захолустную Талсу с населением в 400 тысяч человек, а не, скажем, Нью-Йорк, Вашингтон или Лос-Анджелес?
— А знаешь, мой выбор связан с... Пастернаком... Когда я был молод, прочитал ему лучшие, как мне тогда казалось, свои стихи (это было за год до его смерти). Борис Леонидович был человеком любезным, не говорил «не нравится», а «да, очень интересно. Может, вы еще что-нибудь прочитаете?». Тогда я прочел стихотворение, за которое меня все ругали:
Я разный — я натруженный и праздный.
Я целе- и нецелесообразный.
Я весь несовместимый, неудобный,
застенчивый и наглый, злой и добрый.
«Боже мой! — воскликнул Пастернак. — Какая у вас вулканическая энергия. Прочитайте еще...» — и я прочел совсем новое:
Как стыдно одному ходить в кинотеатры
без друга, без подруги, без жены,
где так сеансы все коротковаты
и так их ожидания длинны!
Как стыдно — в нервной замкнутой войне
с насмешливостью парочек в фойе
жевать, краснея, в уголке пирожное,
как будто что-то в этом есть порочное...
Это «Одиночество» заканчивалось строками:
Спасибо женщинам, прекрасным и неверным,
за то, что это было все мгновенным,
за то, что их «прощай!» — не «до свиданья!»,
за то, что, в лживости так царственно горды,
даруют нам блаженные страданья
и одиночества прекрасные плоды.
Я дочитал, и вдруг Пастернак произнес: «А вот это от Пушкина — он тоже сумел поблагодарить женщину в час расставания. Женечка, думаете, вы написали это про себя? Нет, и про меня, и про всех мужчин».
Борис Леонидович дал мне совет: «Ради Бога, никогда не предсказывайте в стихах собственного самоубийства — это была ошибка Сережи и Володи». Он, конечно же, имел в виду Есенина и Маяковского: один предсказал себе петлю, другой — пулю. «Обратите внимание, — волновался Пастернак, — какова сила слова: нельзя такими вещами играть, потому что волей-неволей вы будете себя к этому подталкивать». Его совет я воспринял как инструкцию — пришел домой и сразу же написал:
На веревке, на убийце,
всем убийцам ненавистной,
не укрыться от стыда.
На веревке я повисну —
не повешусь никогда!
В 1966 году, во время моей поездки в США (я был приглашен 27 американскими университетами), вышел английский фильм «Доктор Живаго» — меня он потряс. Тогда на этом произведении с двух сторон шла политическая спекуляция, но режиссер от политики удержался — он снял историю любви Живаго и Лары, в роли которой блистала Джули Кристи. Этот фильм, как и наш «Летят журавли», сыграл гигантскую роль в окончании «холодной войны», они обнажили душу русского народа, показали, что Россия — страна, где люди думают, страдают и любят, что это хорошие люди.
Главная мелодия из «Доктора Живаго» — мелодия Лары — написана французским композитором Морисом Жарром, но это очень чайковская музыка, она потрясающе введена в фильм.
Дима, ты не поверишь: я выбрал Талсу, потому что... совершенно случайно на центральной площади городские часы заиграли... мелодию Лары...
Я на площади Ютика в Талсе
cтою, как щелкунчик,
который сбежал из балета,
посреди оклахомских степей,
посреди раскаленного лета.
Здесь привыкли ко мне,
и мой красный мундир деревянный
тем хорош,
что на красном невидима кровь,
а внутри меня — рана за раной.
Мне бинтуют их,
зашивают, —
есть и поверху, есть и сквозные,
но никак она не заживает,
моя главная рана — Россия.
Поучают Россию,
как будто девчонку,
в Брюсселе, Женеве.
Было стыдно, когда все боялись ее —
cтало стыдно, когда все жалеют.
Но ее поднимают на крыльях
Чайковского белые лебеди.
Он с ладони их выкормил
теплыми крошками хлебными.
Я щелкунчик из сказки немецкой,
из музыки русской,
но давно не бродил
по таежной тропинке,
от игол и мягкой, и хрусткой.
Мне ковбой на родео сказал:
«ты прости, я был в школе лентяем.
Где Россия?
Постой, — где-то между Германией
и... и Китаем?».
А ведь в точку попал он.
Россия действительно между,
но от этого «между»
терять нам не стоит надежду.
И однажды я вздрогнул
на площади Ютика в Талсе,
потому что с Россией на миг
с глазу на глаз остался.
Это мне городские часы
под размеренные удары
Заиграли хрустально
мелодию Лары.
Жаль, что сам Пастернак
не услышал той музыки,
снега рождественского искристей.
Если даже не фильм,
то ему бы понравилась Джули Кристи.
Запрещенный роман
прорывался в Россию
мелодией Мориса Жарра,
исчезал в телевизоре звук,
если где-то на льду
танцевала под эту крамольную
музыку пара.
Но во всех кабаках —
и в столице,
и даже в Елабуге
тему Лары играть ухитрялись,
прикинувшись дурнями,
лабухи.
И, не зная за что,
инвалиды рублевки кидали,
и мелодии этой подзванивали
медали:
(Поет):
Если, крича,
плачу почти навзрыд,
словно свеча,
Лара в душе стоит.
Словно свеча,
в этот проклятый век,
воском шепча,
светит она сквозь снег.
И ты плачешь, Россия, плачешь
по всем, кто где-то замерз в пути.
Жгут, горячи, слезы, как воск свечи.
Русь, ты свети!
Лара, свети, свети!
Даже кресты плачут живой смолой.
Родина, ты будь ради нас живой!
Мир пустоват, без огонька в ночи,
и Пастернак с Ларой, как две свечи.
И ты плачешь, Россия, плачешь
по всем, кто где-то замерз в пути.
Жгут, горячи, слезы, как воск свечи.
Русь, ты свети,
Лара, свети, свети!
И рыдали медвежьи,
опилками туго набитые чучела,
потому что, как запах тайги,
эта музыка мучила.
И, скитаясь по свету,
опальный роман доскитался
до того, чтобы время вызванивать
музыкой в Талсе.
Тихий шелест страниц запрещенных —
мой трепет российского флага.
От чего-то нас все-таки вылечил
доктор Живаго.
И щелкунчиком, не деревянным — живым
в нескончаемом вальсе
я кружусь вместе с Ларой
на площади Ютика в Талсе.
Кстати, я не случайно упомянул «Щелкунчика» — дело в том, что в ковбойском городе Талса этот балет уже 20 лет не снимается с репертуара. В классической постановке выступают дети с окрестных ранчо, и всюду: на улицах, в магазинах — стоят фигурки деревянных Щелкунчиков. Ну а еще весь город собирает деньги, чтобы спасти в Антарктиде пингвинов, которых, оказывается, тоже чем-то травят.
В Талсе проходят замечательные фестивали — недавно, например, две с половиной тысячи человек собрались на главной площади и слушали 13-ю симфонию Шостаковича, а потом я со своими студентами поставил двухчасовое шоу — мы читали стихи и по-русски, и по-английски.
Помимо поэзии, я преподаю русское и европейское кино. У меня очень хорошие студенты — они были в восторге от «Водителя для Веры» с блистательным Богданом Ступкой в главной роли, а еще им безумно понравился фильм «Холодное лето пятьдесят третьего...», хотя ребята с трудом разобрались в сюжетной линии и задавали много вопросов. После очередного просмотра я, как правило, предлагаю выставить рейтинг картин, так вот, на первых местах неизменно «Летят журавли» и «Похитители велосипедов» (эту ленту я видел раз 70 — она, можно сказать, моя любимая).
Ради интереса я показал студентам то ли «Ночной», то ли «Дневной дозор» (точно не помню названия — мне это все равно), они так этот новый русский фильм раздраконили: мол, зачем вам, русским, создавшим великое кино, голливудщина, которую сами мы презираем?!
В общем, мне очень нравится в Талсе — я же сам родом из глубинки.
— Тем не менее вы с успехом могли бы воспитывать молодежь и в России. Не задумывались о том, чтобы вернуться?
— Все мы мало живем на свете — вот в чем проблема! Из-за этого не хватает времени и на шар Земной в целом, и на свою страну в частности. Я неизменно подчеркиваю, что не эмигрировал — паспорт у меня российский, просто имею грин-карт, которая дает право на работу и безвизное жительство в США.
Я горжусь, что внес свою лепту в борьбу против однопартийной системы, что не напрасно добивался отмены цензуры, что это мы остановили войну в Афганистане... В августе 91-го я был на баррикадах у Белого дома, но свое пребывание в парламенте при Ельцине счел невозможным и отказался принять из его рук орден Дружбы народов, поскольку именно он развязал кровавую бойню в Чечне. Мне было так больно видеть коррупцию так называемой демократии, которой отдал столько сил, что предпочел уехать преподавать в США... Хотя и не предполагал, что это продлится так долго...
«НАША ПЛАНЕТА — ВСЕМИРНЫЙ ПЕРРОН»
— Евгений Александрович, наверное, как никто другой, вы можете сопоставить два образа жизни, две системы ценностей: Америки и России. Когда-то вы сняли потрясающий фильм «Похороны Сталина» — вам не кажется, что сегодня на вашей родине Сталин воскрес?
— Нет, нет! Если бы это случилось, я уже оказался бы за колючей проволокой.
— Как в таком случае вы расцениваете установившийся ныне в России режим?
— Видишь ли, в чем дело... К сожалению, при Ельцине у нас начался хаос, и назначение путинской вертикали, думаю, в том, чтобы установить в стране дисциплину, заменить расшатанность на более жестко скрепленные отношения и обязательства разных слоев общества друг перед другом.
В самой такой идее не вижу ничего противозаконного, напротив — это естественно, но, к сожалению, мы вечно перегибаем палку... Некоторые решения, принятые Госдумой, кажутся мне ошибочными, например, что участия 20 процентов избирателей будет достаточно, чтобы объявить выборы действительными. Во-первых, это благословляет политическую апатию, во-вторых, отношение большой части населения останется за занавесом — мы даже не узнаем, что эти люди думают о власти, о настоящем и будущем страны...
Сейчас у кандидатов, не связанных ни с какими партиями, шансов пройти в парламент гораздо меньше. Все сделано в интересах зарегистрированных партий, способных набрать два миллиона подписей, но это серьезный барьер для молодых людей, еще не очень известных, однако желающих себя проявить и обладающих какими-то потенциально интересными идеями.
Считаю также, что мы недостаточно резко осуждаем участившиеся случаи ксенофобии — я называю это общим словом антиинтернационализм.
— Хорошее слово!
— Кстати, хотя оно лежит на поверхности, его до меня, как ни странно, никто не употреблял. Понятие антиинтернационализм включает и антисемитизм, и проявления расизма...
Происходит это, конечно, не только у нас, но все-таки мы не можем жить, абсолютно забыв, что в идеалах социализма очень много хорошего, усвоенного от христианства, и в том числе братство народов. Если мы их — эти идеалы — отдадим, позволим на наших глазах растаптывать, если будем пассивны, это аукнется большими бедами. Происходящее нельзя замалчивать, потому что, как ни неприятно признавать это в стране, победившей Гитлера, мы имеем дело с фашизмом.
Также нельзя скрывать, что Советский Союз был в той войне не один. Нам обидно, — и совершенно справедливо! — когда на Западе забывают, сколько жизней мы отдали, но ведь и им тоже горько, если кто-то у нас не прочь запамятовать, как они помогали СССР в трудное время.
Мы сражались плечом к плечу как боевые соратники, а у нас есть тенденция — хочется отплатить им за неблагодарность: «Вот вам! Как вы, так и мы!». В чем же виноваты их ветераны: французы, которые сражались в антифашистских эскадрильях, англичане, которые вели к Мурманску транспорты с боевой техникой и часто погибали в море?
Я, например, был совершенно потрясен итогами опроса, который после недавних взрывов в лондонском метро проводила радиостанция «Эхо Москвы». Не все, но некоторые соотечественники говорили нечто ужасное вместо слов элементарной человеческой солидарности...
— ...сочувствия, сострадания...
— Испокон веков их проявление русскому народу присуще, а из их глоток вырывалось лишь злобное: «Так им и надо, так им и надо!». Для меня эти ксенофобские сентенции просто как нож в сердце. Хочу прочитать, с твоего позволения, стихотворение об этом, немножко его сократив...
Снова от крови на рельсах мокро.
Мир, как открытая рана.
Станции лондонского метро —
родственницы Беслана.
Рельсы на станции детства Зима
с бабочками узорными,
странно, что в мире, сходящем с ума,
вы еще кем-то не взорваны.
Каждый автобус, вагон, магазин —
завтра, быть может, могильники,
где по хозяевам из руин
плачут щенками мобильники.
Наша планета — всемирный перрон
вместе с детьми грудными.
Господи, хоть бы треклятый террор
сделал всех сразу родными!
Как же звонили бесстыднейше вы,
наши сограждане злобные,
в радиостанцию «Эхо Москвы»
после трагедии в Лондоне.
Торжествовала звонков канонада:
«Так им и надо! Так им и надо!».
Зависть не прячется по углам —
бедам чужим она рада:
«Лишь бы им плохо —
пусть хуже и нам.
Так им и надо! Так им и надо!».
Наш доморощенный сталинский Рим
вычеркнул слово «пощада»,
тыча в арену пальцем кривым:
«Так им и надо! Так им и надо!».
Мне этой радости мерзкой природа
памятна с тридцать седьмого года.
В душах — гулаговских пил вжик да вжик.
Страхом все мы облучились,
и ненавидеть злорадно «чужих»
мы на своих обучились.
Дух сердобольной Руси не исчез,
как потайная лампада.
Только боюсь, чтобы вновь не воскрес
рук обвинительных радостный лес:
«Так им и надо! Так им и надо!».
Взорваны наша страна и судьба,
взорвана русская тайна.
Может, мы все — только клочья себя,
взорванные несрастаемо?
В чем же английская здесь вина,
если рычат мохнато
наши ворчатели, наша шпана:
«Так им и надо! Так им и надо!».
Родины разными могут быть,
но при войне и терроре
разве не может объединить
общая родина — горе?
Горю друг друга откроем двери.
Разве не пели и мы «Типерери»?
(Поет):
Путь далекий до Типерери,
Путь далекий домой.
Путь далекий до крошки Мери
И до Англии родной.
Разве не лили бабы неграмотные
cлезы на фильме о леди Гамильтон?
Cлушая про Сталинград, англичане
шапки когда-то снимали в молчаньи.
Разве под мессершмитную музыку
не прорывались их транспорты к Мурманску?
Там заморожены павшие в битвах
в айсбергах — родичи будущих битлов...
И не накажут ли муками ада
Нас за постыдное: «Так им и надо!»?
— Браво, Евгений Александрович!
— Я считаю, что наши присяжные ведут себя трусливо и даже постыдно, когда деликатно пытаются избегать слова «фашист». Как же тогда назвать людей, иногда совсем молодых, которые носят свастики и медальоны с портретом Гитлера, празднуют день рождения фюрера у памятника Пушкину? Страшно, что это дети народа, который потерял в войне с гитлеризмом 26 миллионов жизней...
— Просто пришло молодое поколение, которое, в отличие от предыдущих, очень мало читает. Книги вытеснены интернетом, видео, музыкой...
— «Майн кампф» тем не менее некоторые знают почти наизусть.

 Продюсер и телеведущий Игорь КОНДРАТЮК: «Руководство «Интера» сделало мое дальнейшее пребывание на канале испытанием на идиотизм»
Продюсер и телеведущий Игорь КОНДРАТЮК: «Руководство «Интера» сделало мое дальнейшее пребывание на канале испытанием на идиотизм» За последние три года жизни Валентины Леонтьевой сын не навестил ее ни разу
За последние три года жизни Валентины Леонтьевой сын не навестил ее ни разу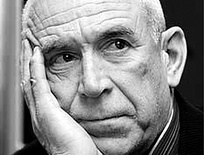 Александр ПАШУТИН: «В телеигре «Последний герой» запрета на близкие отношения не было — нам даже презервативы выдавали»
Александр ПАШУТИН: «В телеигре «Последний герой» запрета на близкие отношения не было — нам даже презервативы выдавали» Богдан Ступка в третий раз стал дедом
Богдан Ступка в третий раз стал дедом Пугачева и Ротару встретятся в Ливадии
Пугачева и Ротару встретятся в Ливадии Юморист Святослав Ещенко получил тяжелые травмы в аварии под Сочи, а Юля Савичева пострадала в ДТП под Киевом
Юморист Святослав Ещенко получил тяжелые травмы в аварии под Сочи, а Юля Савичева пострадала в ДТП под Киевом В Севастополе ограбили Садальского, а в Москве — Этуша
В Севастополе ограбили Садальского, а в Москве — Этуша Александр Абдулов окрестил дочь Евгению, прозванную им Тапочками
Александр Абдулов окрестил дочь Евгению, прозванную им Тапочками В новом ресторане Михаила Поплавского «Кропива» капустняк подают в тарелке из хлеба, а окрошку — изо льда
В новом ресторане Михаила Поплавского «Кропива» капустняк подают в тарелке из хлеба, а окрошку — изо льда 55-летний поклонник предложил Николаю Расторгуеву свою почку
55-летний поклонник предложил Николаю Расторгуеву свою почку Во время фотосессии Бритни Спирс вырвало на платье от Gucci
Во время фотосессии Бритни Спирс вырвало на платье от Gucci Алла Довлатова вышла замуж за милиционера
Алла Довлатова вышла замуж за милиционера Морган Фримен спас тонувшую женщину
Морган Фримен спас тонувшую женщину Сытых бунтов не бывает
Сытых бунтов не бывает Как упоительны в России вечера...
Как упоительны в России вечера... Евгений ЕВТУШЕНКО: «Взорваны наша страна и судьба, взорвана русская тайна. Может, мы все — только клочья себя, взорванные несрастаемо?»
Евгений ЕВТУШЕНКО: «Взорваны наша страна и судьба, взорвана русская тайна. Может, мы все — только клочья себя, взорванные несрастаемо?» «Чуть-чуть хотел сделать как лучше, а вышло опять, как всегда!»
«Чуть-чуть хотел сделать как лучше, а вышло опять, как всегда!» Роман ВИКТЮК: «Профессор-медик сказал мне: «Вы — счастливый человек. Вас охраняет любовь»
Роман ВИКТЮК: «Профессор-медик сказал мне: «Вы — счастливый человек. Вас охраняет любовь» Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги