Гроссмейстер Виктор КОРЧНОЙ: «Фишер заявил, что я, Карпов и Каспаров — агенты КГБ и все наши матчи заранее были расписаны»


(Продолжение. Начало в № 24—25)
«ВДРУГ ГЛУХОЙ УДАР ПОСЛЫШАЛСЯ И ИСТЕРИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ КРИК — ЗАЖИГАЕТСЯ СВЕТ, НА ПОЛУ ОКРОВАВЛЕННЫЙ ТАЛЬ ВАЛЯЕТСЯ... КУБИНЕЦ СОЗНАЛСЯ, ЧТО ВРОДЕ ИЗ РЕВНОСТИ УДАРИЛ ЕГО ПО ГОЛОВЕ БУТЫЛКОЙ ОТ КОКА-КОЛЫ»
— Возвращаюсь вновь к Талю... Что за история произошла у вас с ним на Кубе во время одного из турниров, когда в пьяной драке ему проломили голову?
— Драки не было — были лишь танцы в баре, куда мы заглянули часа в два ночи: не знаю, как это случилось, потому что было темно, только пара официантов бродила с фонариками. Я как раз пошел с девочкой танцевать...
— С кубинкой?
— Ну да, Таль танцевал тоже, причем мы хорошо понимали, куда явились, — например, отправляясь в уборную, предпочитали друг с другом разговаривать по-английски. Вдруг глухой удар послышался и истерический женский крик. Первая мысль: «Что-то случилось с Талем», и я понимаю, что раз попало ему, теперь моя очередь. Зажигается свет, на полу мой окровавленный спутник валяется, и тут в середину, меж столов, входит человек с красной повязкой и отрывисто приказывает: «Всем оставаться на местах!».
Всех, кто там был, а это 43 человека, кубинский КГБ, или как это у них называется, забрал, нас тоже допрашивали. Один кубинец сознался, что он вроде из ревности ударил Таля по голове бутылкой от кока-колы, да так, что она разбилась, — можете себе представить, какой силы был удар?
— Ревнивца, наверное, расстреляли?
— Вероятно (смеется), а Таль через три дня с повязкой на голове (все лицо, разумеется, синее было) вышел играть. В итоге с результатом 11 побед, две ничьих он набрал абсолютно лучший на Олимпиаде результат, но все равно ночное приключение ему не простили. Мы в дружеских отношениях были, но я понимал, что ничем помочь ему не могу, а Карпов со своим политическим весом и влиянием — вполне...
Из книги Виктора Корчного «Антишахматы: записки злодея. Возвращение невозвращенца».
«1966 год, шахматная Олимпиада в Гаване, мы — гости правительства Республики Куба. Как слух диктаторов ласкает слово «республика»! Сталин, Пиночет, Кастро, Саддам Хусейн — не правда ли, милый букетик республиканцев?!
Мы с Талем — в одной комнате, и ближе к ночи нам захотелось пойти повеселиться. Оставив у порога вторую пару обуви (нет, не для чистильщиков, а для надсмотрщиков: пусть они будут спокойны), мы покидаем отель и в сопровождении кубинца, нашего шапочного знакомого, и его девушки около двух часов ночи оказываемся в ночном баре. Темно, звучит музыка, пара официантов бродит с фонариками, мы заказываем и не спеша пьем баккарди, а затем с Талем вышли в туалет — разговаривали только по-английски. Потом я пригласил на танец сидящую в нашей компании девушку, после меня пошел танцевать с нею Таль.
Внезапно послышался глухой удар и истерический женский крик, и меня как током пронзило: что-то случилось с Талем. Первая мысль: «Ему попало — теперь моя очередь». Зажигается свет, на полу валяется окровавленный Таль, а в середину, меж столов, входит человек с красной повязкой. Он отрывисто приказывает: «Всем оставаться на местах, а эти двое (я и Таль) поедут со мной». Именем революции он останавливает на улице первую попавшуюся машину, и мы мчимся в больницу.
Таля ударили в лоб бутылкой, причем удар был страшной силы — толстенная бутылка из-под кока-колы разбилась вдребезги. Удар, по счастью, пришелся над бровью — ни глаз, ни висок не пострадали.
В больнице, пока Талю обрабатывают рану и накладывают швы, меня охраняет «человек с ружьем» — чтобы на меня не напали и чтобы я не убежал. В шесть часов утра приезжает переводчик команды (кстати, личный переводчик Кастро с русского языка), и мы направляемся в отель, а через пару часов — экстренное заседание нашей команды. Таль свое получил, зато ругают вовсю меня — за то, что ослабил состав перед решающими встречами (вечером играть с Монако).
В конце дня к нам в комнату пришел министр спорта Кубы с извинениями. Он рассказал, что из бара забрали шесть человек, и один из них сознался, что ударил Таля из ревности. Как бы не так! Позднее мы узнали, что забрали всех — 43 человека, а сказал бы тот, который признался, что ударил из политических соображений, — не нашли бы наутро косточек ни его, ни его семьи...
Через три дня Таль поправился настолько, что мог играть. Вынужденный ходить в темных очках, все еще слабый, он тем не менее играл блестяще — добился абсолютно лучшего результата на Олимпиаде, но этой ночи нам никогда не простили — ни мне, ни Талю. Вскоре он стал хронически невыездным — особенно с начала 70-х годов, когда подпал еще под одну секретную инструкцию: женатым в третий раз — самая строгая проверка. Стало ему совсем плохо, и чтобы спасти свою активную шахматную жизнь, продал он душу — пошел в услужение к Карпову, и кончилась наша дружба.
«А был ли мальчик?».
Да, еще такой штрих... Людей, которые были три раза женаты, за границу предпочитали не выпускать, и по Мише это ограничение ударило тоже. Короче, в отличие от Ефима Геллера Таль за мной не шпионил, и однажды, когда я попросил его со мной поработать, сказал: «Извини — я сейчас с Карповым».
— С Талем вы были очень дружны, но из-за этого дружба закончилась — насколько я знаю, вы его даже назвали «рабом Карпова»...
— Ну, это не очень сильное определение: раб, крепостной... А вы бы какое слово употребили? (Смеется).
«ДА, ФИШЕР БЫЛ СУМАСШЕДШИМ, — НУ, А КАКИМ НУЖНО БЫТЬ, ЧТОБЫ В ОДИНОЧКУ ВЫИГРАТЬ У СОВЕТСКОЙ ШАХМАТНОЙ МАШИНЫ?»
— Роберта Фишера и Гарри Каспарова вы называете самыми гениальными в истории шахмат гроссмейстерами...
— ...да...
— ...и я не могу не спросить вас о Фишере, которого многие сумасшедшим считали, — он и впрямь таким был?
— Ну а каким нужно быть, чтобы в одиночку выиграть у советской шахматной машины? Когда Фишер играл матч со Спасским, у него был секундант, помощник по фамилии Ломбарди, так он его к шахматной доске не подпускал — сам все анализировал. Единственно, что делал Уильям Ломбарди, — отвечал на грязные письма советских, письменно. В итоге один человек всю советскую когорту и за доской обыграл, и дома, во время анализа отложенных партий, — это было невероятно!
...Я встретился с ним возле Пасадены — предварительно мы договорились с его секретаршей, но я 53 минуты на улице ждал — и это в пунктуальной Америке! Он прибежал в зимней шапке — а дело было в июле! — значит, скрывался, прятался, и привез мне в подарок десяток книг о советско-израильской связи, которая побеждает мир. Мы поговорили с ним, пообедали и пошли гулять: целый час бродил он без шапки и без какой-то другой маскировки — все было нормально.
Вечером у меня был сеанс, а перед ним надо вступительное слово какое-то произнести, ну а я же с Фишером провел целый день — конечно, рассказал довольно много об этом, и нашелся человек, который позвонил Бобби по телефону и все сообщил. На следующий день мне пришло от него письмо, где говорилось, что я агент КГБ и за ним слежу, — после этого ничего мне не оставалось, как пообещать дела с ним впредь не иметь. Он был расстроен: я же писал о нем в книгах, и хотя там не только красивые были вещи, не всегда комплименты, но ему очень нравилось — так рассказали мне люди из Рейкьявика.

Из книги Браны Црнчевича «Эмигрант и игра».
«В удивительном развитии Игры в ХХ веке все-таки самая большая заслуга советской шахматной школы.
После революции шахматная доска вылетела из салона на улицу — Ивана заинтересовали господской игрой, и он, стремящийся ко всему, быстро и легко показал в этой Игре невиданные способности. Несколько миллионов иванов начали организованно играть в шахматы, советская школа Игры произвела подряд семь чемпионов мира (то, что этот титул пять раз доставался советскому гроссмейстеру Ботвиннику, только повысило престиж школы) и годами владеет миром.
Иван совершил революцию. Иван победил Адольфа. Иван построил чудесное и мощное государство. Иван летит в космос. Иван, смотрите-ка, успешно меняет направление древней Игры, для которой нужны интеллект и талант. Иван, значит, и могущественный, и интеллигентный — из этого следует, что и коммунизм интеллигентен, и каждый новый чемпион мира по шахматам напоминает Западу о силе и интеллекте коммунизма. Опять появились эти пресловутые Советы, и опять, в игре, они всех победили — что-то в этом есть!
Поэтому Запад обрадовался появлению самородного Фишера, хотя и сам Фишер может считаться лучшим, действительно, самым гениальным учеником советской школы Игры — сначала у русских он научился тому, чему можно научиться, а затем, забросив все остальное, открыл тайны Игры, которые не смогла опровергнуть и самая лучшая школа Игры в мире.
Когда после блестящей победы над советским гроссмейстером Таймановым он затмил и датскую звезду Бента Ларсена, противостоял ему экс-чемпион мира Тигран Петросян, но Фишер победил и его, и перед ним оказался король Игры Борис Васильевич Спасский. Говорилось, да и сейчас внутри советской школы Игры верят, что Спасский уступил потому, что играл слишком самоуверенно и самостоятельно. Борис Васильевич не захотел принять советы Школы о способе игры и советы дипломатии Игры о поведении — имея противником Фишера, с его своенравным и самостоятельным поведением, Спасский хотел доказать и себе, и миру, что он король, что он один и что свои важнейшие решения принимает лично.
Из поражения Спасского был извлечен определенный урок, и хотя верили, что Фишер отречется от престола, если ФИДЕ не примет его действительно королевские условия, дипломатия Игры решила между последними двумя кандидатами на королевское место Игры, Анатолием Карповым и Виктором Корчным, сделать фаворитом того, кто покажет больше игровых и дипломатических способностей для возможной встречи с Робертом Фишером. Виктор Корчной считает, что тогда выбор пал на более молодого и податливого в работе с дипломатией Игры Анатолия — это из Анатолия загодя сделали короля Игры, а из него, Корчного, — эмигранта.
Эмигрант верит, что Анатолий получил сильную поддержку дипломатии Игры потому, что для них он, Корчной, не менее неприятный противник, чем Фишер. Взбунтовавшись, он смутил миллионное войско Игры в Советском Союзе — все большие игроки, к которым относился и Виктор Львович, воспитаны и управляемы мощной рукой школы и дипломатии Игры по твердо установленным правилам.
Безусловно, в рамках правил школы гроссмейстер мог бороться и за личную славу и престиж, но он был воспитан так, что всегда часть его славы и престижа доставалась школе, в которой он учился, и дипломатии Игры, которая лучше его знала, что нужно. Крепко сбитые советские гроссмейстеры следили явно или тайком за великими заграничными игроками и всегда тем или иным способом помогали один другому, чтобы на верху какого-нибудь важного турнира перед ними не оказался какой-нибудь иностранный гроссмейстер.
Фишер пробил эту блокаду, победил всех и потерпел поражение от себя!
Виктор Львович считает, что Фишер доказал, что можно играть с большим успехом без помощи отечества, можно играть без него и даже против него, поэтому, убежден Корчной, Анатолий получил полковников (прокурора и космонавта), каратистов, врачей, из которых один парапсихолог, личного повара и четверку помощников в игре, среди которых и сам экс-чемпион мира Таль. Количеством и качеством людей, приехавших на Филиппины, они хотят доказать Виктору Львовичу, что готовы сделать против него все».
«У МЕНЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДРУГИЕ, НИЧЕГО ОБЩЕГО С ВОЗЗРЕНИЯМИ КАРПОВА И КАСПАРОВА НЕ ИМЕЮТ»
— Фишер же утверждал, что и вы, и Карпов, и даже Каспаров — все трое агенты КГБ...
— Нет, ну всерьез воспринимать это нельзя... Тогда они играли со Спасским коммерческий матч в Югославии, и Фишер разорвал письменное уведомление от Госдепартамента США о том, что участие в матче на территории Югославии нарушает международное эмбарго и Фишеру за это грозит до 10 лет тюрьмы, и плюнул на обрывки прямо на предматчевой пресс-конференции перед телекамерами. Там он не только про агентов КГБ заявил, но и про то, что все мои матчи с Карповым и с Каспаровым заранее были расписаны. Я Спасскому сказал: «Ну, это же невозможно слушать, что он несет». — «А Фишер прав», — ответил Борис, и больше мы с ним на эту тему не разговаривали.

Из книги Браны Црнчевича «Эмигрант и игра».
«Он утверждал, что Анатолий — очень опасный и суровый человек.
«Подумайте о его поведении с Фишером», — сказал он.
А что было в поведении Анатолия с Фишером?
Виктор Львович рассказывает, как искренне встревожился и расстроился, когда встретил Фишера в США. Увиделись они не случайно: Корчной посетил его, чтобы переговорить о дружеском матче, который финансировал бы его тогдашний менеджер Хер Хилгерт из Кельна. Он застал Бобби опустошенного и одинокого и понял, что этот несчастный гений потерян для шахмат навсегда.
«Им удалось его одурачить», — говорит Корчной.
Фишер, между прочим, утверждал, что открыл международный заговор коммунистов и капиталистов против себя и что он не будет играть, пока этот подлый заговор не сокрушит.
И хотя Виктор Львович верит, что подобный заговор между советской и мировой дипломатией Игры, когда дело касается Фишера, существует, ясно, что Бобби попал в западню, из которой выхода нет. Нечто подобное, после встречи с Фишером в Пасадене, он заявил прессе: журналисты же приписали ему слова, что Фишер — сумасшедший.
Виктору, во время его белградского матча со Спасским, Бобби направил злое письмо, на которое Виктор Львович ответил коротко и оскорбленно. «Дорогой господин Фишер, — написал он, — я знаю, что вы имели укороченное детство, но я вас прошу не продлевать его за мой счет». Это, как я помню, весь текст — не знаю, послал ли Виктор Корчной это письмо, но друзья просили его этого не делать.
«Я сам за одну встречу с Фишером убедился, что он потерян для шахмат, а Толя встретился с ним четыре раза, — говорил он саркастически, — как вы думаете, почему?».
Виктор Львович утверждает, что Толя лучше других знает, что история Бобби закончена. Он идет, чтобы увидеться с Фишером и в этом еще раз убедиться, и после каждой встречи с этим несчастным человеком, видя его таким беспомощным, театрально заявляет, что он был бы рад встретиться с Бобби в матче, чтобы увидеть, кто лучше.
Думаю — и говорю это, — что Виктор Львович не прав: разве ему не кажется вероятным, что Анатолий хочет этой борьбы?
«Да, он хочет играть с Фишером, — соглашается Эмигрант саркастично, — но только когда убедится, что Бобби играть не может!».
Он утверждает, что Анатолий с детства имел прозвище Гаденыш, и верит, что только ничтожество может так вести себя по отношению к несчастному Фишеру. Анатолий, считает Виктор Львович, самый бесцветный чемпион мира в истории Игры, с ним может сравниться лишь наихудший Тигран Петросян, который привел Игру в упадок.
Анатолий — сильный чемпион мира, который, однако, шахматам не дал ничего нового. Виктор Львович со вздохом вспоминает чемпионов, которые все до одного были значительнее Анатолия, так как Толя, он говорит, образец наилучшего коллективного чемпиона мира: он согласился на такую помощь дипломатии и школы Игры, привез сюда и своего колдуна, потому что он — Гаденыш, а Гаденыш не может иначе!
Поэтому Виктор Львович верит, что Анатолий действительно мог придумать этот жестокий трюк с рукопожатием, и осуществил он его мастерски: уже протянутая рука Корчного беспомощно повисла, а глаза Анатолия победоносно поблескивали, и этот Гаденыш спокойно сказал, что пожимать ему руку больше не будет».

— Второй самый гениальный, на ваш взгляд, шахматист — Гарри Каспаров. Вы с ним играли в 1983 году, фактически благословив на чемпионство, — тот матч прошел без эксцессов, он отнесся к вам уважительно?
— Ну что значит — эксцессы? Сначала я вел в счете: выиграл, несколько ничьих сделал, потом проиграл, снова была ничья, а в конце проиграл практически без борьбы одну за другой две партии. Ко мне потом люди Карпова подошли с упреком: «Ты этот матч сплавил». — «Как?» — удивился я. «Ну, как? По партиям видно же». Я не психолог, но понял, что случилось. После Мерано, где творилось что-то ужасное, где на меня оказывалось беспрецедентное давление, я сказал, что с Карповым больше не буду играть никогда и ни при каких обстоятельствах. Я понимал: если одолею Каспарова, должен буду свое слово нарушить, — значит, победить не имел права. Нет, нарочно я не проигрываю, но руки двигались по-другому (смеется), будто они не мои. Вот и уступил Каспарову...
— Вы хитрый...
— Нет, отчаянный.
— Вы недавно сказали: «Я не могу принять, что Каспаров бросил шахматы и сейчас его враг не Карпов, а Путин», а что о политических взглядах Гарри Кимовича вы думаете?
— На этот вопрос я отвечать не хочу. Знаю, что Карпов вдруг стал депутатом Госдумы (бедная Дума! — до чего докатилась?), и значит, в настоящий момент, если говорить о политике и о правах, Карпов в России занимает позицию много выше Каспарова. Боже мой, лично у меня политические взгляды другие — ничего общего с воззрениями Карпова или Каспарова не имеют.
— Когда во время одного из шествий протеста в Москве Каспарова задержали и посадили в СИЗО, Карпов, который плоть от плоти советской и ее преемницы российской политической системы, туда к нему пришел (его, правда, к Каспарову не пустили). На меня его поступок большое впечатление произвел — почему, на ваш взгляд, он это сделал?
— Понимаете, у Каспарова есть группа людей, которые ему советы дают, но их Гарри не слушает — поступает, как ему вздумается, а Карпов действует тоньше — во всяком случае, в этом смысле. У него тоже есть группа людей, к мнению которых прислушивается, и делает иногда то, на чем они настаивают.
— Этот же вопрос я задал Гарри Каспарову, и он ответил: «Для Карпова это и впрямь был подвиг, вдобавок поход в СИЗО стал для него шоком. Он же в МВД свой человек: тесно с этой системой связан, столько работает для нее, ездит, часто дает сеансы в колониях, — тем не менее его тоже ко мне не пустили. Видно было, что Карпов этим фактом обескуражен, а почему он отправился ко мне в СИЗО? Я, конечно, и сам об этом задумывался... Видимо, есть для него вещи важнее, чем тот сложный комплекс отношений, который нас связывал. Мы чемпионы мира, а это, как говорил Спасский, самый маленький профсоюз в мире... Реально нас осталось всего ничего: Смыслов, Спасский, Карпов и я — все! (на тот момент был еще жив Фишер), и для Карпова, как мне кажется, ценнее всего то, что мы все-таки из одной истории, из одной эпохи. Как ни странно, я оказался ему в этой ситуации ближе, чем Путин и все эти питерские пацаны... Карпов осознает: они — троечники, а мы — советские чемпионы!». Вы с его трактовкой согласны?
— Он очень тонкий для меня, Каспаров, — я такую формулировку не принимаю.
«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТРАННО, ЧТО В ХХ ВЕКЕ ЧЕТЫРЕ ГРОССМЕЙСТЕРА ИЗ ПЯТИ БЫЛИ ЕВРЕЯМИ»
— Я вам провокационный задам вопрос: в ХХ веке в шахматах — не только советских, но и мировых! — было настоящее засилье евреев: чем это объяснить?
— В иудаизме существуют вещи, которые роднят эту религию с шахматным делом, шахматным мастерством — вы, например, часто можете увидеть религиозного еврея, который вот так (склоняется) сидит над текстом и ни слова не произносит, головой только покачивает, и таких деталей, штрихов очень много. Действительно странно, что в ХХ веке четыре гроссмейстера из пяти были евреями — пятый был или русским, или американцем, или англичанином, или даже немцем. Еще раз повторю: причину этого я вижу в чисто еврейских традициях и ритуалах.

— В Украине всегда была очень хорошая шахматная школа, а кто из украинских шахматистов самый, на ваш взгляд, интересный?
— Вы знаете, я вспоминаю, что некоторым из них посвящали красивые эпиграммы — так, про львовянина Леонида Штейна написали:
Это снова и снова
Повторять я готов:
Он не просто из Львова,
Он из шахматных львов.
О Ефиме Геллере, который жил долгое время в Одессе, отозвались так:
Пусть продолжается в прессе
Перечень звонких побед.
Есть свой гроссмейстер в Одессе —
А почему бы нет?
Про меня тоже сочинили, хотя с точки зрения поэзии послабее немножко:
Другие, разменяв фигуры,
Давно льют в кофе молочко.
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в буре есть очко.
Впрочем, я вам про украинские шахматы не ответил. Трудно так сразу сообразить — не стану же я какого-нибудь Гуфельда называть отцом украинских шахмат, а вот львовянин Василий Иванчук — здорово: это даже Каспаров признает, который несколько удивительных партий ему проиграл.
— Вам как гроссмейстеру-мужчине женские шахматы интересны? Встречается у слабого пола что-нибудь любопытное?
— Я партии женских шахмат просматриваю, потому что дам тренируют мужчины, которые показывают им интересные идеи. Женщины часто воплощают эти замыслы на шахматной доске, но я не верю, что они свободно их продуцируют сами. Впрочем, нам ведь это и не нужно, не так ли? — мы предпочитаем, так сказать, развивать свои идеи, отталкиваясь от выдвинутых другими шахматистами.
— В Советском Союзе был удивительный феномен грузинской женской шахматной школы — достаточно назвать Нону Гаприндашвили, Майю Чибурданидзе, Нану Александрия, Нану Иоселиани — они, говорят, даже на одной улице жили. Почему именно под солнцем Грузии расцветали шахматные чемпионки?
— Грузины действительно уяснили: шахматы — это замечательно, они хорошие деньги дают, поэтому каждую девочку нужно на способности к этой игре проверить. Удивительной была эта Гаприндашвили, ведь женщинам часто не хватает... ну, боевитости, что ли, желания побеждать, а она оказалась шестым ребенком в семье, младшей сестрой у пяти братьев — откуда же женской мягкости взяться, покладистости? Вы с ней общаетесь, а она ведет себя, как мужик, — и это прекрасно: она удивительная шахматистка и не случайно 16 лет была чемпионкой мира.
Думаю, эта традиция и сегодня жива — появляются новые имена, скажем, Чибурданидзе осталась и вроде довольно сильно играет, но на пятки ей наступают всякие Наны Дзагнидзе и прочие, которые вполне могут помериться с нею силами.
— Еще удивительнее были три сестры Полгар из Венгрии, да?
— С ними сложнее: во-первых, папа Полгар воспитывал дочерей дома, в школу не посылал, во-вторых, запрещал им играть с женщинами, и потом, когда они стали добиваться успехов (а выступали девушки очень удачно, старшая Жужа вообще стала чемпионкой мира), с каждой он 50 процентов себе брал.
— Вот это папаша!
— Да, но платить такой ясак невозможно, и они поспешили замуж. Одна осела в Штатах, другая в Израиле, третья дома, в Венгрии (смеется), но сестры родили детей и стали на себя непохожи.
— Скажите, пожалуйста, гроссмейстеры начала ХХ века: Алехин, Ласкер, Капабланка и так далее — были сильнее или слабее плеяды советских гроссмейстеров — чемпионов мира?
— Это определить трудно, хотя специалисты-математики есть, которые пытаются подсчитать: вот у Эммануила Ласкера такой-то рейтинг, у Александра Алехина такой-то... Даже соответствующая книга издана: на первом месте там Каспаров, на втором — Карпов, на третьем — Фишер, четвертый вроде Ботвинник, кто пятый — не помню, на шестом — Ласкер, на седьмом — я, а где-то на 14-м месте Алехин. Эти данные Двинский приводит, который сейчас в Канаде живет, но вопрос в том, будут ли Карпов и Каспаров играть в моем возрасте? Об этом же там ни слова, значит, сопоставлять не вообще результаты надо, а, скажем, когда мне было с 20 до 30 лет и Каспарова в этом возрасте, но эта задачка еще сложнее.
«Я ТРИЖДЫ ОБЫГРАЛ ЧЕ ГЕВАРУ. ОН, КОГДА Я ДАВАЛ НА КУБЕ СЕАНСЫ ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ, НЕИЗМЕННО НА НИХ ПРИСУТСТВОВАЛ, И КАЖДЫЙ РАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУБИНСКОЙ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОСИЛ ВОТ С ЭТИМ ВАЖНЫМ ТОВАРИЩЕМ СДЕЛАТЬ НИЧЬЮ. Я ТАЛЮ СКАЗАЛ: «Я БЫЛ ГОТОВ С ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НИЧЬЕЙ ОГРАНИЧИТЬСЯ, НО ОН, К СОЖАЛЕНИЮ, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ В КАТАЛОНСКОМ НАЧАЛЕ»
— Вы в десятку самых выдающихся шахматистов в истории входите?
— Пас — задавайте другой вопрос (смеется).
— Хорошо, а кто сегодня, на ваш взгляд, шахматист планеты № 1?
— Я очень ценю Владимира Крамника за то, что он обыграл Каспарова, — с тех пор прошло, правда, 12 лет, но ничего за эти годы не изменилось, хотя Каспаров шахматы с горя бросил. Примерно так можно сказать, а есть еще...
— ...Вишванатан Ананд?
— Да, он и Борис Гельфанд — я с ними обоими в хороших отношениях.
— С кем из покойных уже гроссмейстеров ХХ века вы бы хотели сыграть?
— Как-то мне позвонил незнакомец и спросил: «С кем из усопших вы бы хотели сыграть?». Я назвал Хосе-Рауля Капабланку, Пауля Кереса и Гезу Мароци. Человек этот, который оказался председателем парапсихологического общества в Швейцарии, снова позвонил мне через неделю и сказал: «Кереса и Капабланку мы там не нашли...
— ...видно, плохо искали...
— ...а Мароци ответил: «Ваш ход». (Смеется). Мароци — венгерский гроссмейстер, который скончался в 1951 году в Будапеште, и мы с ним вроде сыграли партию, которая длилась несколько лет, и я ее, в общем-то, выиграл. Людей все это волнует — как объяснил этот парапсихолог, он таким образом хотел продемонстрировать, что душа, не связанная с телом, живет и действует, но есть люди, которые говорят: «А где доказательства? А почему Мароци? А не лучше ли было бы Каспарову заплатить, чтобы с ним сыграть?». Тем не менее, как мне сообщили, Мароци за моими результатами продолжает следить.
— Вы сейчас вспомнили Капабланку, и у меня сразу цепочка ассоциаций возникла: Капабланка, Нью-Васюки, «12 стульев», Остап Бендер, Паниковский... Паниковский говорил о зицпредседателе Фунте: «Сразу видно человека с раньшего времени. Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет!». Вы для меня и для многих читателей — «человек с раньшего времени»: сейчас таких уже нет...
— Ну да, хотя я стараюсь быть человеком вне времени...
— Ходят легенды о том, что вы встречались за шахматной доской с Че Геварой и трижды его обыграли...
— Да, это правда. Он, когда я давал на Кубе сеансы одновременной игры, неизменно на них присутствовал, и каждый раз ко мне председатель кубинской шахматной федерации приходил и просил вот с этим (указывает пальцем) важным товарищем сделать ничью. Я Талю вроде сказал: «Да я был готов с этим прекрасным человеком ничьей ограничиться, но он, к сожалению, ничего не понимает в Каталонском начале» (смеется) — это Таль рассказывал, сам я подробностей не помню, поэтому приходится его слова принимать на веру.

— Как вы считаете, популярность шахмат в мире сегодня падает?
— Да, и тут мы должны сказать о том, что держалась она на гигантских усилиях советской школы, стремившейся их развить. Шахматы продолжают вызывать интерес благодаря колоссальным усилиям российских гроссмейстеров, которые на них зарабатывают, тем не менее, если присмотреться, видно, что российское правительство денег на шахматы не дает, исландское тоже.
Кстати, лет 30 назад любили каверзный вопрос задавать: в каких странах шахматы — обязательный предмет в школе? — и обычно правильного ответа люди не знали. Если он в Западной Европе звучал, вам отвечали: Советский Союз, но это вранье — на самом деле 30 лет назад всего две таких страны было: Куба и Исландия. В связи с этим на Кубе до сих пор еще развиваются неплохие шахматисты, а в Исландии знаменитые игроки уже ушли в банки, во всякие магазины работать.
— В красивую жизнь...
— Точно (смеется).
— Когда шахматы в Советском Союзе небывалого достигли успеха, остальные страны тоже пытались как-то к этому уровню подтянуться, но у них не получилось — этим подъемом СССР обязан своей государственной шахматной политике?
— Ну, такое массовое увлечение шахматами, как было в Советском Союзе, еще где-то представить себе невозможно. Ну где это видано: в стране 300 международных гроссмейстеров, мастеров высшего класса, а кто из них за пределами СССР был известен? Да практически никто. Ну, выехал какой-то Иванов на турнир, раз, два — первое место занял. С чего вдруг? А тогда все это как должное принимали: он же из Советского Союза, который в шахматах доминировал.
— Сейчас стало модно сражаться не с обычным соперником из плоти и крови, а с компьютером — вы действительно считаете, что искусственный интеллект шахматы, в конце концов, уничтожит?
— Тут я очень суров и верю, что человеческие шахматы компьютер и вправду сводит на нет.
— Вы когда-нибудь сами против компьютера играли?
— Еще когда он слабеньким был — потом перестал.
— Почему? Не хотели проигрывать?
— Вообще-то, да. Еще однажды во время сеанса одновременной игры против меня компьютер поставили, и я ему уступил: ну и все — зачем мне это надо?
«ЕСЛИ ЗЛЫМ ЯЗЫКАМ ВЕРИТЬ, САМЫМ СИЛЬНЫМ АКТЕРОМ В ФИЛЬМЕ «ГРОССМЕЙСТЕР» БЫЛ Я»
— Не случайно говорят, что талантливый человек талантлив во многом — еще живя в Советском Союзе, вы вместе с Андреем Мягковым сыграли в художественном фильме «Гроссмейстер». Сниматься в кино вам понравилось?
— Понимаете, если злым языкам верить, самым сильным актером в том фильме был я. «Минуточку! — возражал. — Во-первых, я этого не принимаю, а во-вторых, если я был самым сильным, то куда же годится группа?». Вот так на эти дела и смотрю, а если вам еще не надоел, могу какой-нибудь стих прочитать.
— Вот!...
— Я ведь стихи когда-то в кружке читал — мне просто не дали на сцене выступить, то есть объяснили, что дикция у меня плохая. Правда, я собрался печальный читать стих, но, с другой стороны, оптимистических там будь здоров было, и мне почему-то захотелось прочитать стихи, которые человек сам для себя написал:
Нависла туча окаянная,
Что будет — град или гроза?
И вижу я старуху странную,
Древнее древности глаза.
И поступь у нее бесцельная,
В руке убогая клюка.
Больная? Может быть, похмельная?
Безумная наверняка.
— Куда ты, бабушка, направилась?
Начнется буря — не стерпеть.
— Жду панихиды. Я преставилась,
Да только некому отпеть.
Дороги все мои исхожены,
А счастья не было нигде.
В огне горела, проморожена,
В крови тонула и в воде.
Платьишко все на мне истертое,
И в гроб мне нечего надеть.
Уж я давно блуждаю мертвая,
Да только некому отпеть.
— Потрясающе!
— Знаете, кто написал? Анна Баркова.

— Вы любите музыку и стихи, детективы и литературу по психологии, а какая книга лежит на вашем столе сейчас?
— Да никакая — с возрастом интерес к чтению пропадает. Действительно, раньше книгами по психологии увлекался и даже из-за одной из них нечаянно бросил курить — думаю, вы в курсе, что с сигаретами когда-то не расставался.
— Сколько лет вы курили?
— С 46-го по 93-й — 47.
— Немало. Вы верующий человек?
— Сказать, что верующий, нельзя, но в Ленинграде меня в католической церкви крестили — в связи с этим моя мать в партийный пошла комитет и наябедничала на отца, у которого были потом проблемы. Ну ладно... Каждый день молитву я не читаю — этого нет, тем не менее верую... О’кей, молиться, думаю, не обязательно, но если большинство в лучшую жизнь верит, которая наступит благодаря чему-то, в то начало, что ее регулирует, это правильно.

— Вы в совершенстве немецкий и английский языки знаете, легко можете общаться с людьми разных национальностей и все же сказали однажды: «Ностальгия — это не тоска по березкам, а тоска по собеседникам». Интересно, а по стране под названием СССР, по времени, в ней проведенному, никогда не грустили?
— Это проблема любого старого человека — с каждым годом вокруг все меньше тех, с кем у него когда-то были милые, хорошие, умные беседы, а испытывал ли я ностальгию (пожимает плечами)? В тот момент на Советский Союз и всех, кто там жил, я был очень зол.
— 21 год назад вы приняли швейцарское гражданство — сегодня вернуться в Россию не хочется?
— Швейцарский паспорт я получил в 92-м и тогда же приехал с женой в страну, которая стала преемницей Советского Союза. Смотрите: в 1976 году я сказал себе, что уезжаю из СССР навсегда, и когда вернулся, его уже не было, так что слово свое сдержал.
«Я ЧИТАЛ, ЧТО МОЯ ЖЕНА В ГИТЛЕРЮГЕНДЕ СОСТОЯЛА, — САМА ОНА ОБ ЭТОМ НИКОГДА НЕ РАССКАЗЫВАЛА»
— О вашей судьбе можно остросюжетные романы писать. В детстве вы провели все 900 дней блокады в осажденном Ленинграде и не понаслышке знаете, что такое война, а ваша вторая жена Петра Лееверик в подростковом возрасте в гитлерюгенде состояла, затем была выкрадена агентами СМЕРШа из Лейпцига и перевезена в Советский Союз, где 10 лет в воркутинских провела лагерях. Удивительно: вы — человек с еврейской кровью, у которого особый к Гитлеру счет, и немка, впитавшая в юности идеи фюрера, столько лет вместе. Сошлись, как говорится, «вода и камень, стихи и проза, лед и пламень» — у вас никогда не было какой-то напряженности в отношениях с женой на почве таких разных биографий?
— Вообще-то, мне на этот вопрос не стоило бы отвечать, потому что вдруг Петра это интервью прочитает (смеется). Когда-то она и впрямь в гитлерюгенде состояла, но с тех пор немало прошло времени и то, что им там внушали, из головы испарилось... Я, кстати, читал, что моя жена в этой организации была, — сама она об этом никогда не рассказывала.
— И вы никогда на темы истории Великой Отечественной войны не спорили, не выясняли до хрипоты, кто был прав: русские или немцы?
— Не спорили по той простой причине, что мне было ясно: мы на разных находимся полюсах, и в момент, когда спор был близок, я уходил в сторону.
— Как Петра воркутинские лагеря вспоминала?
— Ну как? По приговору Особого совещания при НКВД она 20 лет получила, а потом в Москву канцлер ФРГ Конрад Аденауэр приехал, и советские власти, которым надо было в Западной Германии посольство открыть, стали его с этой целью обхаживать. Аденауэр поставил условие: «Отдайте нам всех говорящих по-немецки военнопленных, которые в ваших лагерях сидят». Советские изо всех сил упирались: «Нет, они все военные преступники», но он сильным был человеком: «Раз так, не будет посольства». Бились довольно долго, и за полчаса до отлета самолета в Бонн советские сдались — в итоге Петру, отсидевшую к тому времени половину срока, из Воркуты отпустили.
— За эти годы, проведенные в заключении, она все о вашей Родине поняла?
— (Смеется). Нет, далеко не все.
Из книги Браны Црнчевича «Эмигрант и игра».
«Оказавшись один, в доме голландского друга, который его скрыл, эмигрант-новичок Виктор Львович Корчной почувствовал себя зверем, за которым гоняются загонщики. Он осторожно раздвигал шторы и смотрел в окно на улицу — город был лес, и эта квартира была лес, откуда слышался лай собак, а он был защищен только титулом Гроссмейстера шахмат — слабой броней против настоящих неприятностей.
Позднее он поселился около какой-то полицейской станции в Амстердаме и еще чаще проводил время около окна. Газеты в эти дни писали о его земляке, ученом, который, как и он, попросил и получил политическое убежище в Голландии — однажды в сопровождении дипломатов своей страны этот перебежчик появился перед голландскими властями и решительно заявил, что желает вернуться в отечество.
И вернулся.
Виктор Львович осторожно смотрел на улицу, через приоткрытые двери брал молоко — боялся, что может пожелать возвращения, и когда, со временем, комната опять превратилась в комнату, когда гигантские деревья превратились в дома, в город, Виктор Львович неловко и неуверенно вышел из своей первой эмигрантской комнаты на Запад.
Он смотрел на Запад без спутника, без главы делегации — это одновременно и смущало его, и было приятным. Умел ли он жить один, без семьи и друзей, здесь, где все-таки все неизвестно? Позже, когда страшные мысли, сопровождаемые кошмарными снами, стали его оставлять, он начал продавать свою Игру, как скрипач музыку. Любопытные приходили посмотреть русское чудо, взглянуть на русского, который Восток заменил на Запад, плохую монету, говорили они, на лучшую, а Виктор Львович становился все более одиноким и спрашивал себя, сможет ли он жить здесь один.
Не знал тогда Эмигрант, что к нему уже направилась Лагерница.
Госпожа Петра Лееверик-Хайне была специалистом по Сибири — после 10 лет Сибири в определенные моменты она казалась самой привлекательной дамой на домашних вечеринках в Цюрихе. Нехотя она начала влюбляться в свою Сибирь, в Сибирь, которая ее раздвоила и помогла стать выше многих знакомых — всех их она побеждала 10-ю годами Сибири!
Люди влюбляются в свое страдание, когда оно проходит и в раны, когда их исцеляют, люди любят свои шрамы — это документ, это печать, которую тайна оставила на теле! Лагерница может засучить рукава и показать всем шрамы, запечатленные колючей проволокой, которой она была связана с лагерем, а рядом была Сибирь.
Остальные дамы и джентльмены засучивали рукава напрасно.
Госпожа Лееверик-Хайне может прервать любой умный и нейтральный швейцарский разговор о политике, может сказать всем: «Вы не имеете об этом понятия — я 10 лет была в Сибири!». Маленькая госпожа Лееверик становится похожей на опытного воина, который в подтверждение своего мнения с удовольствием показывает свои раны, — что против ран может сказать тот, кто никогда и нигде не был ранен? Люди все-таки смотрят на чужие раны и думают: «Хорошо, это прошло, это только рубец — можете идти со своей раной в другое место: вчера вы нам ее показывали за ужином, сегодня за обедом». Лишь раненые знают, что и исцеленные раны ноют, а ночью открываются и снова болят, как когда-то, но как это докажешь кому-то, кто никогда не был ранен, кто смотрит на рубец равнодушно?
Когда госпожа Лееверик, которая немножко, так, по-женски, интересовалась шахматами, узнала, что Виктор Львович Корчной оттуда навсегда приехал сюда, она направилась познакомиться с ним, поздравить его, приветствовать за этот путь без возврата. Виктор Львович давал сеанс одновременной игры в Цюрихе — госпожа Лееверик, глядя через любознательные головы зрителей, добавила Виктору Львовичу свои 10 лет Сибири и статью 58, по которой наказываются политические осужденные.
И вот они сейчас за кофейным столиком в Цюрихе — госпожа Лееверик и ее 10 лет Сибири и огромное, пустынное, эмигрантское одиночество Виктора Львовича.
Песок и снег.
О, как понимает он ее сибирские истории! Эта грустная тень в глазах, пока он ее слушает. Эта улыбка. Он понимает. Единственный.
Когда они расстались, она видела его во сне.
Лагерница свой сон направила на Эмигранта, она почувствовала потребность видеть его снова и снова, ее начало привлекать бесконечное и грустное одиночество Виктора Львовича и его милая беспомощность. Из одиноких женщины умеют скроить и сшить все — она почувствовала, насколько он одинок, и захотела защитить его от всего и всех, от врагов и друзей, которые всегда могут быть подброшены.
Между тем Виктор Львович по-прежнему проводит свои голландские дни — привыкает к соседям, уходит гулять один, и возвращается еще более одиноким. Он замечает, что Лагерница вселяется в его одиночество, но это его не беспокоит — велико его одиночество, в нем могут поместиться и Лагерница, и ее 10 лет Сибири. Лагерница раскрывает свои мысли и чувства, как чемоданы, и ищет в Викторе Львовиче место для себя и своих рубцов.
Доверчиво она показывает ему свой Запад, учит его различиям — она учительница. Когда Эмигрант устает от своей западной прогулки, Лагерница превращается в клюку, когда его мучит жажда — в стакан воды, когда он работает — в секретаршу.
Она мелко режет мясо в тарелке Виктора Львовича и одновременно нас изучает: то открыто, то тайно и осторожно — теперь она телохранитель! Она встала бы грудью перед любой пулей, направленной на Виктора Львовича, и пока мы гуляем около белградского «Метрополя», Лагерница идет всегда на полшага впереди Эмигранта: она готова броситься на вражеский автомобиль, и верю, что ради него могла бы даже сама себя взорвать.
Эмигрант узнает Запад и одновременно понимает, что полностью эмигрировать никогда и нигде не может. Ленинград был его город, и тысячи любителей Игры были его подданными — он привык к тому, что люди на улице останавливаются, с чем-нибудь его поздравляют и, когда надо, из-за чего-нибудь утешают. Там он был князь, феодал Игры, дворянин без имения, но все-таки дворянин, там он имел лицо, а здесь его еще нет. Эмигрант чувствует, что со своим старым лицом здесь он не может ничего сделать, и со своей старой душой тоже — ему нужно новое лицо и новая душа, знает, что не справится с этим сам, и допускает, чтобы Лагерница ему помогла.
С каким удовольствием она бросилась за работу!
Она распорола Виктора Львовича, как старый пиджак, открыла его хаотичную душу и попыталась создать тот или иной порядок. Она делала это усердно, как какой-нибудь хороший католик, который знает, как надо поступить с православием, если оно будет ему предоставлено. Она добралась до настоящей женской работы — из старого человека делает нового, рожает его заново для себя и только для себя, но душа Виктора Львовича, хоть он и запущенный православный католик, — русская, и Лагерница упорна, она все начинает сначала.
Государство разумнее, чем госпожа Лееверик, новые режимы имеют потребность создавать новых людей, но не стараются особенно старых переделать в новых. Режиму достаточно слова старого гражданина, что он стал новым гражданином, что он за, а не против (так рожден социализм!), но госпожа Лееверик — женщина, она не такая нерадивая, как государство, и действительно хочет сделать из Виктора Львовича нового человека и борется за новую душу его упорно.
...Если вы эмигрировали в Германию, вы еще не немец — вы пожизненный кандидат в немцы, во Франции вы нечто меньшее, чем наименьший француз, в Англии вы, безусловно, не англичанин — там вы только какой-то остаток от мира. Только в черной Африке вы нечто большее, чем черные африканцы, но и это вам не всегда удастся, потому что вы белый, а черная Африка освобождается, приходит великий день черной свободы. В один прекрасный день и в Африке будет иначе — белые будут краситься в черный цвет, чтобы быть равноправными.
Государства ясные, деловые и точные — покупают нефть, продают древесину, торгуют пушками. Нет государства, которое хотело бы из-за какого-то эмигранта испортить отношения с другим государством: пусть эмигрант утонет в нефти, пусть его убьет пушка, но древесина должна прибыть вовремя, и пушка должна выстрелить вовремя!
Восточный Эмигрант — комплимент Западу, западный — Востоку: ограничимся комплиментами, но эмигранты все-таки имеют шанс — существуют женщины!
Немец тебя в немцы не примет, но немка — примет. Французу иностранец — только иностранец, но француженке, может, он будет самым близким. Что касается женщин, из далекого неизвестного мира, из чужой страны, из чужой веры, из чужой идеологии всегда может прийти самый важный Он.
Так встретились Эмигрант и Лагерница.
...Потребность быть необходимой Виктору Львовичу растет в Петре Лееверик, как и страх, что она ему, в один прекрасный день, будет менее необходима. Она совсем переселилась в его эмигрантскую пустыню и здесь живет — выходит из Виктора Львовича, только когда он спит, чтобы каким-нибудь неосторожным движением его не разбудить. Она закрыла к Виктору Львовичу все подходы, так как никому, за исключением себя, не верит.
Когда он спит или работает, Лагерница остается одна и чувствует себя ненужной — тогда она рассказывает о нем и произносит его имя священно, как молитву. Лагерница верит в шахматы, поскольку это его Игра, его вера, и пока Виктор Львович играет, она хотела бы сделать за него сильный, победный ход, она хотела бы победить вместе.
Лагерница сердится из-за плохих писем, радуется хорошим, поражена тем, что существуют те, кто болеет за Анатолия, — разве можно не заметить разницы между этими двумя людьми?! Все болельщики Анатолия для Лагерницы или советские наемники, или агенты — госпожа Лееверик часто лепит комок из 10 лет Сибири и бросает его в лицо карповских болельщиков, наемников и шпионов, и всегда чувствует потребность оскорбить врагов Виктора Львовича (особенно когда она одна).
Для друзей Корчного она трудна, ибо мелочно их проверяет, врагам Корчного она мерзка, поскольку готова сделать все для одного и единственного Виктора Львовича. Из-за него она объявила бы Советскому Союзу войну и, если бы могла, захватила бы эту мощную страну и бросила бы к его ногам, из-за него она сказала бы Франции: «Говно», плюнула бы в Италию, дала пощечину Германии: она интересуется шахматами потому, что это — его Игра.
Она могла бы погибнуть с ним или за него!
Если бы она была литературным героем, если бы она была выдумана, ее бы любили, но, непостижимая, она — такая реальная в жизни (и смерть в книгах менее страшна, и любовь понятнее!). Даже мне Лагерница иногда неприятна — чувствую, что и в меня она бросила бы комок из 10 лет Сибири и стреляла бы в меня немилосердно, если бы подумала, что по отношению к Виктору Львовичу я неискренен. И все-таки я не умею сердиться на эту маленькую, сумасшедшую Лагерницу, которая один лагерь заменила другим, которая из Сибири через Германию и Швейцарию снова вернулась в Сибирь — на этот раз в Сибирь Виктора Львовича, в его ледяное эмигрантское одиночество, которое она упорно населяет собой.
Она и ее цепочка с цифрой 13 вместо креста. Цепочки меняются, а число 13 — это его, как она верит, порядковое число среди чемпионов мира по шахматам, и ее вера в Виктора Львовича остается.
Она видела во сне эту цифру, когда его встретила!
Люди подозрительно слушают рассказ о ее сне, ибо не знают, что лучшие сны видятся о прошлом, а иногда и придумываются. Сомнительны сны, которые относятся к будущему, — в прошлом легче быть и добрым, и невинным, а настоящее ничего нам не гарантирует, и будущее тоже. С тем, что случилось, мы знаем, что делать, но никогда не знаем, что делать с тем, что с нами случается, а также не знаем, что с нами случится, кто и какие мы будем тогда.
Виктор Львович просыпается, встает из своего заграничного гроба и иногда верит, что не проснулся, что он действительно мертв. Трудно ему, мертвому, встать из гроба только для того, чтобы играть в шахматы с Анатолием и отечеством, от которого он отрекся.
Его энергия расходуется, исчезает. Кто знает, что было бы с Эмигрантом, если бы Лагерница не превращалась в электростанцию и Виктор Львович мог снова гореть, светить. Эмигрант горит, а Лагерница превращается в ухо. Мало знаменитостей могут выйти из себя и посмотреть на свою жизнь и свою славу со стороны, но даже такие не имели бы силы отклонить помощь одного прекрасного женского уха, которое слушает только их.
Чувствительному человеку женщины чаще всего единственные друзья. Мужскому уху нельзя сказать все — оно слышит крик, но не верит. Как только влюбленный поэт (если любовь — болезнь) выздоравливает, он не уверен, любил ли он именно эту женщину, но знает, что любил ее ухо, которое верило в его стихи, и глаза, в которых эта вера сияла. Он все забывает, но это ухо, эту церковь, в которой произносил молитву, и глаза, в которых молитва всегда была услышана, он никогда не забудет. Женщина с хорошим ухом может извлечь из поэта больше стихов, нежели все другие уши мира, — знает ли Виктор Львович, что каждый преследуемый скрыт в женщине надежнее всего?
Багио принял Эмигранта, а Лагерницу и ее комок Сибири — нет, да и трудно было принять женщину, которая рядом с Виктором Львовичем идет верно, как пес, готова залаять на Советский Союз, съесть Америку и, если нужно, плюнуть в лицо Флоренсио Кампоманесу, который притащил Виктора Львовича на Филиппины.
Лагерница готова защитить Эмигранта, даже когда он вне опасности. Легко и уверенно она отказалась от собственного разделения мира на плохой Восток и хороший Запад — мир сейчас делится на тех, кто «за», и тех, кто «против» Виктора Львовича. Если Запад против Виктора Львовича, то он для нее больше не Запад — он какой-то маленький, потерянный и наивный: хитрый Восток его обманул и съел. Если Америка против Виктора Львовича — Америки больше не существует.
Лагерница в любой момент готова превратиться в ракету и сама себя выпалить во врагов Виктора Львовича, кто бы и где бы они ни были.
...Поистине странная эта маленькая госпожа Лееверик — всегда с Виктором Львовичем на устах и комом Сибири в руке, и этот ком Сибири никак не растает, он выдерживает даже тропический климат.
Гроссмейстер Найдорф болтает, что шахматы — это только шахматы, это спорт, это искусство, это не политика: кричит, что он не любит политику, и все шахматисты братья или нет? Все мы, Найдорфы, знаем, что политическая карта мира, с Виктором Львовичем на одной и его противниками на другой стороне, — не точна: и СССР существует, и Америка, и Англия, и все другие страны, и древесина должна прибыть вовремя, и нефть, и зерно, и пушки.
Эмигранты тут и там могут использоваться — хороший комплимент стране, в которую они перебежали, но шпионы, террористы и валюта должны обмениваться — это мир, это реальность!
Петра Лееверик против СССР?
Виктор Львович и Петра Лееверик против Анатолия Карпова и СССР?
Лагерницу определили в преступники, и если Корчной проиграет, то потому, что она была с ним, а если проиграет Карпов, то потому, что Лагерница и Эмигрант вывели его из себя.
Хорошо, говорят Найдорфы Найдорфам, не стоит Советы любить, но пусть эти два человека сыграют одну партию в шахматы, только одну — единственную партию в шахматы, которые искусство, математика, спорт, все — только не политика.
И Виктор Львович ее жертва, и Анатолий, и СССР, и Кампоманес, и все мы ее жертвы — говорят о маленькой госпоже Лееверик друзья и недруги Корчного, а она тут потому, что Эмигрант знает, что никто здесь не был бы ему ближе Лагерницы. Ему пришлось бы потратить целую жизнь, чтобы узнать Голландию, и другую — чтобы понять Германию, Францию или Швейцарию, а кто, кроме женщины, согласился бы быть для вас и врачом, и телохранителем, и зонтиком, и псом, и костылем, и ракетой, кто, кроме женщины, всегда бы имел ухо для вашей печальной песни, сердце для страдания и мозг, который понимает все, в особенности то, что и вам непонятно.
Виктор Львович, кажется, знает, что женщинами больше всего владеют те, кто им полностью предоставляется, и разве дети не властвуют над своей беспомощностью?
У Эмигранта нет ни желания, ни времени все объяснять друзьям — они не хотят верить без остатка, отбирая только то, что для них приемлемо, а Лагерница верит во все, особенно в то, что невероятно. Верить в очевидное — это мужская привилегия, а человеку, который хочет быть чемпионом мира в Игре и при этом — одиноким Эмигрантом, необходимо человеческое существо, которое поверит в то, что является только предчувствием.
Думаю, Виктор Львович знает, что из одного государства убежать в другое государство нельзя: когда вы эмигрируете, имеете на два государства меньше — то, которое потеряли, и то, которое получили.
Думаю, Эмигрант знает, что из одного государства можно убежать только в одну женщину...».
«БАНКА ЧЕРНОЙ ИКРЫ В ДЕНЬ — ЭТО ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАЗИЙ: Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЕЕ БЫ СЪЕДАЛ, НО НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ, ДА И ИКРЫ»
— Жена действительно до сих пор называет вас Виктором Львовичем и на вы?
— Да, мы и правда на вы. Поначалу я был для нее просто Виктором, но потом приехал какой-то русский и стал меня Виктором Львовичем называть — ей это понравилось, а для моих ушей такое обращение звучит так же официально, как Джон Фицджеральд Кеннеди, поэтому по возможности стараюсь от этого уходить.

— Вашей бывшей супруги Беллы, которая все-таки перебралась с сыном на Запад, уже нет в живых — вы поддерживали с ней отношения до кончины?
— Нет, и даже сын со мной не общался, считая повинным во всем. Ну, действительно, если бы я несколько лет подождал, он бы свободно уехал: не обязательно ведь было сидеть в лагерях — так? Короче, контактов у нас не было, но когда Белла уже была больна, я написал ей письмо с медицинскими советами. Ответа не получил...
— На похоронах вы были?
— Нет.
— А когда она скончалась, плакали, горевали?
— Нет.
— Чем занимается сегодня ваш сын?
— У него компьютерная фирма — он в порядке.
— Вы общаетесь?
— Раз в месяц беседуем по телефону.
— Он по отношению к вам стал мягче, терпимее?
— Ну, если в человеке есть капля разума, за столько лет можно стать мягче.
— Вы нынче состоятельный господин?
— Ну, не знаю... По русским меркам я должен считать себя обеспеченным, но спонсором, скажем, не стану — для этого средств у меня недостаточно. Вот так... (Смеется).
— О вас в свое время рассказывали множество небылиц — говорили, в частности, что каждый день вы съедаете банку черной икры и ежедневно проходите 10 километров на лыжах. В этих слухах какая-то доля правды есть?
— Банка черной икры — это из области фантазий: я с удовольствием ее бы съедал, но не хватает денег, да и икры, а теперь что касается 10 километров... На горнолыжном курорте под названием Энгельберг я купил небольшую квартиру, мимо которой проходит лыжня — она действительно 10-километровая, и еще лет 10 назад я ее проходил, но сейчас, если два километра осилю, уже рад.
— Вы сегодня старейший играющий гроссмейстер мира — чем такое творческое долголетие объясняете?
— Из СССР я бежал — и этого не скрываю, — чтобы свою шахматную жизнь продолжить. Она кончилась, да и страны той, откуда я родом, нет — куда ж мне теперь податься? По-видимому, остается одно — продолжать играть: это логично.
— Сколько времени вы сейчас ежедневно посвящаете шахматам?
— Заниматься, считаю, нужно столько, сколько продолжается партия. В свое время она пять часов длилась, теперь сократилась до трех — вот примерно три-три с половиной часа каждый день шахматам уделяю.
— Вы от них не устали?
— Когда усталость накатывает, дело плохо — надо бежать или ехать отдыхать... куда-нибудь на турнир, то есть когда сижу за доской, все, считайте, нормально.
— Я вам задам последний вопрос, и прошу прощения, если посчитаете его не совсем этичным... Актеры говорят, что умереть на сцене для большого артиста — счастье, и мы знаем, что некоторые театральные корифеи, в частности, мхатовские, встретили смертный час на подмостках. Вы умереть за шахматной доской не мечтаете?
— Что ж, два гроссмейстера так скончались, причем даже не в своих странах, а оба в Финляндии.
— Да вы что?!
— Да, это Пауль Керес и Владимир Багиров. Первый почувствовал себя плохо, возвращаясь с турнира в Канаде, в Хельсинки лег в больницу, и через четыре дня его не стало, а у Багирова прихватило сердце, когда они с соперником попали в цейтнот. Он умер на сцене, и партия осталась — выигранная, кстати, только заканчивать ее было уже некому.
— Я благодарю вас за прекрасное интервью — я получил огромное удовольствие и, мне кажется, стал после нашей встречи умнее...
— Это нормально, а напоследок хочу сказать, что у нас еще достаточно тем для обсуждения осталось. Не обязательно ведь говорить только о шахматах и шахматных фигурах — все-таки мы немножко больше, чем какая-нибудь инфузория-туфелька...


 Гроссмейстер Виктор КОРЧНОЙ: «Фишер заявил, что я, Карпов и Каспаров — агенты КГБ и все наши матчи заранее были расписаны»
Гроссмейстер Виктор КОРЧНОЙ: «Фишер заявил, что я, Карпов и Каспаров — агенты КГБ и все наши матчи заранее были расписаны» Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел ЖЕБРИВСКИЙ: «Хочу сказать ОБСЕ: водку жрать с террористами — это одно, а обеспечить безопасность людей на выборах — другое»
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел ЖЕБРИВСКИЙ: «Хочу сказать ОБСЕ: водку жрать с террористами — это одно, а обеспечить безопасность людей на выборах — другое» Экс-министр экономики Украины, народный депутат шести созывов Сергей ТЕРЕХИН: «В скандале о педофилии сепаратист Колесниченко поучаствовал, а это уже с Москвой связано — целились в Тимошенко»
Экс-министр экономики Украины, народный депутат шести созывов Сергей ТЕРЕХИН: «В скандале о педофилии сепаратист Колесниченко поучаствовал, а это уже с Москвой связано — целились в Тимошенко» Здравствуйте, я ваша тетя!
Здравствуйте, я ваша тетя! Вдова бойца АТО Оксана РУДНИК: «Военное руководство хоронило мужа как героя, а как дошло до компенсации, назвало его самоубийцей»
Вдова бойца АТО Оксана РУДНИК: «Военное руководство хоронило мужа как героя, а как дошло до компенсации, назвало его самоубийцей»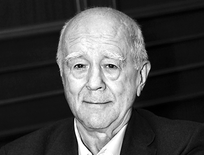 Кто даму ужинает, тот ее и танцует
Кто даму ужинает, тот ее и танцует Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги